 |
 Грантовая программа Грантовая программа
в регионах
|
 |
|
|
|
 |

|
 |

|
<%Language="VBScript"
Response.Write "![]() "
%> "
%>
|
|
<%Language="VBScript"
Response.Write "версия для печати"
%>
|
 Социальный атлас российских регионов / Тематические обзоры Социальный атлас российских регионов / Тематические обзоры
Региональные рынки труда
Обновление этого раздела по данным за 2007-2009 гг. показало, что накануне кризиса и в первые его месяцы состояние региональных рынков труда резко поменялось – от относительно благополучного в подавляющем большинстве регионов страны, хотя и со многими структурными проблемами, до резкого нарастания проблем. Кризис привел к двукратному росту безработицы в относительно развитых регионах, дополняемому всплеском скрытой безработицы и вынужденной неполной занятости. Обострились также проблемы безработицы в депрессивных регионах и на востоке страны, где и до кризиса положение на рынках труда было не самым благополучным. Только в наименее развитых республиках ситуация пока изменилась несущественно, она и до кризиса была неблагополучной. В разделе обновлен анализ структурных характеристик региональных рынков труда за 2007-2008 гг., т.е. за последние годы экономического роста. Добавлен анализ некоторых кризисных тенденций занятости (более детальный анализ представлен в другом разделе Социального атласа - "Мониторинг кризиса в регионах"). Впервые сделан анализ занятости и заработной платы госслужащих в регионах по данным 2009 г., обновлен анализ других подразделов, по которым есть более свежая информация. Неизменной осталась вводная часть, объясняющая соотношение спроса и предложения на рынках труда, так как она предназначена для тех, кто только начинает знакомиться с этой тематикой.
Состояние региональных рынков труда зависит прежде всего от макроэкономических тенденций, и начавшийся кризис вновь это подтвердил. Но общие для страны тенденции "преломляются" в регионах по-разному. Спрос на рабочую силу зависит от структуры экономики и уровня развития территории, предложение - от динамики численности и половозрастного состава населения, уровня образования. Поведение на рынке труда обусловлен о и социокультурными особенностями населения. Региональное разнообразие проявляется не только в уровне экономической активности, занятости и безработицы, но также в структуре занятости, условиях труда, гендерных и возрастных различиях работающего населения. Каждой из этих тем посвящен свой раздел. Инвесторы и управленцы могут найти в них оценки проблем занятости для принятия более обоснованных решений, а исследователи - более детально ознакомиться с состоянием и динамикой региональных рынков труда.
Спрос и предложение на региональных рынках труда
Состояние национальных, региональных и локальных рынов труда определяется соотношением двух основных компонентов: предложения рабочей силы (численности экономически активного населения (по классификации МОТ к экономически активному населению относится население в возрасте 15-72 лет, занятое в экономике и ищущее работу — безработные), его образования, возрастной и профессиональной структуры, территориального размещения и мобильности) и спроса на рабочую силу, т.е. существующего количества рабочих мест.
Спрос на рабочую силу зависит в первую очередь от макроэкономических тенденций. К ним относятся динамика развития экономики и инвестиционная активность, непосредственно влияющие на количество рабочих мест: при росте экономики их становится больше, при кризисе или спаде число рабочих мест сокращается. Кроме того, спрос на рабочую силу, как и ее предложение, зависит от достигнутого уровня оплаты труда. В странах и регионах с «дешевой» рабочей силой ниже издержки создания новых рабочих мест и поэтому чаще размещаются новые трудоемкие производства. При высоком уровне оплаты труда работодатели снижают свои издержки путем автоматизации производства или его вывода в «дешевые» страны или регионы, тем самым ограничивая предложение новых рабочих мест в экономике своей территории.
Для региональных и локальных рынков труда значительную роль в формировании спроса играет структура их экономики, в том числе соотношение трудоемких и нетрудоемких отраслей. В современной экономике наиболее трудоемки отрасли услуг, поэтому в крупных городах, где сектор услуг развивается опережающими темпами, предложение рабочих мест больше, что способствует лучшему состоянию рынков труда. В небольших монофункциональных городах рынки труда зависят от положения градообразующего предприятия и поэтому наиболее уязвимы и нестабильны.
Еще один фактор спроса на рабочую силу – политика государства в сфере занятости. Во-первых, это роль государства как регулятора рынка труда, определяющего «правила игры» – найма и увольнения работников, социальных гарантий и социального страхования занятых. Институциональные нормы оказывают заметное влияние на состояние рынка труда. При более жестком регулировании и высоком уровне социальной защиты занятых, характерном для западноевропейских стран, работодатели, как правило, стремятся минимизировать риски дополнительных издержек и ограничивают найм работников, что приводит к росту безработицы. При более мягком регулировании, характерном для США, занятые менее защищены при ухудшении ситуации в экономике, но при благоприятной экономической конъюнктуре облегчается создание новых рабочих мест, в результате рынок труда оказывается более гибким. В России трудовые отношения регулируются федеральным законодательством. В начале 2000-х гг. был принят Трудовой кодекс с достаточно жесткой регламентацией отношений работника и работодателя в целях социальной защиты занятых. Однако побочным негативным эффектом стала скрытая дискриминация при найме на работу тем категориям занятых, которые защищаются законом (женщин с несовершеннолетними детьми, инвалидов и др.). В периоды кризиса государство может использовать свои немалые возможности для давления на бизнес или для его субсидирования, чтобы замедлить высвобождение занятых и таким образом смягчить рост социальной напряженности. Но такая политика препятствует санации неконкурентоспособных предприятий и ведет к консервации неэффективной занятости.
Во-вторых, государство влияет на рынок труда как крупнейший работодатель в бюджетной сфере – социальных услугах, обороне и охране общественного порядка, государственном управлении и др. Органы государственной власти определяют необходимую численность и структуру занятых, уровень оплаты труда в этих отраслях экономики. Политика государства в сфере оплаты труда в отраслях бюджетной сферы также влияет на занятость. Если повышение оплаты не сопровождается мерами по снижению неэффективной занятости, результатом, как правило, становится рост численности работников бюджетного сектора. В российских регионах со слаборазвитой экономикой, особенно высокодотационных, бюджетный сектор стал ведущим по численности работников и занятость в нем продолжает расти.
Предложение рабочей силы зависит от динамики численности населения и половозрастного состава. В регионах с незавершенным демографическим переходом и растущей численностью населения проблемы занятости наиболее остры. Они обусловлены количественной диспропорцией между возрастной когортой молодежи, входящей на рынок труда, и меньшей по численности возрастной когортой уходящих на пенсию. Такая ситуация характерна для слаборазвитых республик Северного Кавказа и юга Сибири, она усугубляется незначительным предложением новых рабочих мест.
Диспропорция может быть не количественной, а структурной, когда спрос на рабочую силу не совпадает с предложением по полу, профессиональной структуре, уровню образования и квалификации. При несовпадении структуры спроса и профессионально-квалификационного состава ищущих работу службы занятости проводят переподготовку безработных. Для государства такая активная политика в сфере занятости весьма затратна.
Поведение населения на рынке труда зависит также от уровня образования, социокультурных особенностей, в том числе эмансипации женщин, территориальной мобильности. В регионах и городах с более высоким уровнем образования населения его адаптация к изменениям спроса на рынке труда идет быстрее, поэтому безработица, как правило, ниже. В регионах нового освоения, заселенных недавними мигрантами, при ухудшении ситуации на рынке труда быстрее начинается миграционный отток, так как мобильность населения выше.
Региональные и локальные рынки труда обладают большим потенциалом саморегуляции. Количественные и структурные диспропорции предложения и спроса могут сглаживаться территориальной мобильностью экономически активного населения: переездом на новое место жительства или маятниковой трудовой миграцией в регионы и города с более значительным предложением рабочих мест. Однако на фоне стран с развитым рынком труда территориальная мобильность населения современной России пока еще невелика. Она вдвое ниже и по сравнению с советским периодом, когда трудовые миграции стимулировались государством или были принудительными. Основные причины низкой мобильности в современной России – редкая сеть городов и слаборазвитая транспортная инфраструктура, препятствующие маятниковым миграциям, огромные перепады цен на локальных рынках жилья и высокие затраты на смену места жительства, непосильные для большинства домохозяйств.
Пока только большой «градиент» социально-экономических различий, создаваемый одновременно притягивающими и выталкивающими факторами, может стимулировать территориальную мобильность. Крупнейшим центром притяжения стала Московская агломерация, с ее огромным спросом на рабочую силу и высокой оплатой труда. Резко расширился радиус трудовых миграций в столицу: маятниковая миграция распространилась за пределы столичной агломерации на соседние области Центра, растет трудовая миграция, особенно из регионов российского юга. С конца 1990-х годов заметно увеличилась трудовая миграция титульного населения стран СНГ, заполняющего рабочие места с более низкой оплатой труда. Даже возвратные миграции русского населения из стран СНГ, расселявшегося поначалу в небольших городах и сельской местности приграничных регионов, стали экономически мотивированными, переселенцы постепенно перемещаются в крупные городские агломерации России. Особенно ярко выражены контрасты в северо-восточных регионах нового освоения: в ведущих нефтегазодобывающих округах с более высокой оплатой труда до середины 2000-х гг. сохранялся приток трудовых мигрантов, в то время как остальные северные и восточные регионы теряют население с 1990-х годов. Многочисленные примеры территориальной мобильности населения, обусловленной экономическими факторами, подтверждают развитие механизмов саморегуляции на региональных рынках труда.
Экономическая активность и занятость
Развитие и федерального, и региональных рынков труда сильнее всего зависит от макроэкономических факторов. Общим для всех субъектов РФ было значительное сокращение экономической активности и занятости в кризисный период 1992-1998 гг., а затем постдефолтный рост активности и занятости, обусловленный экономическим подъемом. Однако уже в 2001 г. этот рост перестал быть общим и сменился новым спадом в 63 регионах (71% субъектов РФ). Несмотря на продолжение роста экономики, этап "восстановительного" роста экономической активности и занятости после финансового кризиса 1998 г. в основном завершился.
До середины 2000-х гг. экономическая активность увеличивались незначительно, а занятость даже сокращалась в отдельные годы. При этом географическая картина стала еще более мозаичной, поскольку в относительно стабильных макроэкономических условиях динамика занятости сильнее зависит от региональных факторов. В агломерациях федеральных городов рост занятости стимулировался созданием новых рабочих мест в отраслях рыночных услуг. В слаборазвитых республиках этому способствовало увеличение числа рабочих мест в социальной сфере, финансируемое за счет федерального бюджета, но это такой рост не может быть устойчивым. В остальных регионах уровень занятости до середины 2000-х гг. почти не менялся, а в 2002-2004 гг. в половине из них даже сокращался.
Только с 2005 г. началась вторая волна роста занятости, охватившая подавляющее большинство регионов. Она стала следствием устойчивого роста спроса на рабочую силу во всех секторах экономики. Этот период завершился осенью 2008 г. с началом нового экономического кризиса.
В целом за 1990-2007 гг. уровень экономической активности населения сократился незначительно – с 70 до 67% в возрасте 15-72 года. Территориальные различия в экономической активности инерционны, т.к. они зависят от унаследованных особенностей – демографических, расселенческих и социокультурных. Более половины субъектов РФ имеют среднероссийские показатели, однако сохранились две контрастные группы: северные и северо-восточные регионы нового освоения, а также агломерации федеральных городов с высоким уровнем экономической активности населения (68-80%); более аграрные и слаборазвитые регионы Европейского юга и юга Сибири с пониженной экономической активностью (40-60%).
Региональные различия в уровне занятости схожи, но они более сильно зависят от состояния экономики и динамики рабочих мест в субъектах РФ. В целом по стране уровень занятости в 2008 г. составлял 63% населения в возрасте 15-72 лет, а в республике Ингушетия – 25%, в Чечне – 37%. Уровень занятости в крупнейших агломерациях (69-72%) намного выше среднероссийского, в Москве и С.-Петербурге работает почти все экономически активное население. Максимальные показатели занятости в некоторых малонаселенных автономных округах Крайнего Севера (74-77%) обусловлены очень высокой долей трудоспособного населения.
Территориальные различия в экономической активности и занятости во многом "запрограммированы" и зависят от унаследованных особенностей региона - демографических, социокультурных, расселения и сложившейся структуры экономики. Рыночные реформы переходного периода усилили преимущества и усугубили дефекты сложившегося территориального неравенства условий на рынке труда.
В первые месяцы кризиса экономическая активность населения сократилась незначительно, в отличие от занятости, уменьшившейся к февралю 2009 г. на 2,5 млн. чел. (данные обследования рынка труда Росстата). По данным следующего, майского обследования занятость населения вновь выросла почти на 2 млн чел. наряду с небольшим ростом экономической активности. Но позитивная динамика не означает выхода из кризиса. Занятость в России имеет цикличный характер – к лету она растет, поскольку оживляются строительство и агросектор, а осенью и зимой сокращается. Так происходит каждый год, и пока невозможно разделить влияние обычной, сезонной цикличности и реальной стабилизации на рынке труда в условиях кризиса. Перспективы могут проясниться не раньше осени 2009 г.
Динамика и структурные изменения занятости
Самое кардинальное структурное изменение - в занятости по формам собственности, за переходный период российский рынок труда стал совершенно иным. Только за 1995-2007 гг. доля занятых на частных предприятиях и в организациях выросла с 34 до 57%, а доля работающих на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной собственности сократилась с 42 до 32%, хотя и остается еще достаточно высокой. Несмотря на значительные региональные различия, частный сектор доминирует почти во всех субъектах РФ, но более заметно – на юге (в Ставропольском, Краснодарском краях, некоторых республиках Северного Кавказа доля занятых в частном секторе достигает 60-65%). Государство осталось основным работодателем лишь в отдельных регионах Крайнего Севера - Чукотском АО (40% занятых, а вместе с занятыми в организациях муниципальной собственности – 60%) и в слаборазвитой республике Тыва, где занятость примерно поровну распределена между государством, муниципалитетами и частным сектором. До середины 2000-х схожую структуру занятости имела Якутия. В целом на севере и востоке страны государство и муниципалитеты - более значимые работодатели, это связано с фактором расселения. Разреженная сеть поселений вынуждает сохранять автономную социальную инфраструктуру в большинстве населенных пунктов, поэтому "бюджетная" занятость высока. Кроме того, существуют и субъективные причины более значительного присутствия государства на рынке труда. Например, в Татарстане и Башкортостане в 2002 г. только 36-38% занятых работали в частном секторе из-за высокой доли государственной и смешанной собственности, но затем политика региональных властей стала меняться и доля занятых в частном секторе выросла до 44-46% в 2004 г., а в 2007 г. достигла 54-56%.
Структурные особенности зависят от многих факторов, включая политику местных властей, поэтому прямой связи между уровнем экономического развития региона и структурой занятости по формам собственности не существует. Максимальную долю занятых в частном секторе чаще имеют регионы с повышенной долей АПК в экономике: Белгородская, Курская области, Ставропольский край (63-66%). Ситуация в регионах с "огосударствленной" структурой занятости более подвижна: к ним по-прежнему относятся слаборазвитые северо-восточные автономные округа и Ингушетия, а в более развитых республиках (Татарстан, Башкортостан, Якутия) занятость постепенно перемещается в рыночный сектор.
Трансформация отраслевой структуры занятости на региональном уровне во многом повторяла общие для страны тенденции. Проследить отраслевые тенденции возможно только до 2004 г. включительно, т.к. с 2005 г. используется новый классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), не сопоставимый с ранее использовавшимся отраслевым классификатором (ОКОНХ).
В переходный период во всех регионах произошло существенное сокращение занятости в промышленности, особенно в первой половине 1990-х годов (на треть с 1990 по 1996 гг.). Этот процесс не завершен, хотя в первые годы подъема (1999-2001 гг.) отмечался небольшой рост промышленной занятости. В целом за переходный период изменения занятости совпадали с тенденцией концентрации промышленности страны в экспортно-ресурсных регионах Урала и Сибири, т.е. со сдвигом "индустриальной оси России" из Центра на восток. В Уральском федеральном округе (включающем Тюменскую область) численность занятых в промышленности в 2004 г. почти не изменилась - 97% от уровня 1995 г., хотя в среднем по РФ она составляет только 83% от уровня 1995 г. Остальные федеральные округа имеют показатели, схожие со среднероссийским (80-86%), хотя в первые годы промышленного роста различия были более заметными. Некоторое сглаживание в целом по округам – результат разнонаправленных процессов, идущих в субъектах РФ. В динамично растущих крупнейших агломерациях федеральных городов, особенно на их внешней периферии (Московская, Ленинградская области), численность занятых в промышленности даже увеличилась, в то время как в большинстве регионов она продолжала сокращаться, особенно быстро – на Дальнем Востоке (из-за миграционного оттока) и в регионах Приволжского федерального округа (из-за стагнации ведущей отрасли - машиностроения).
Существенное сокращение численности занятых в промышленности в переходный период почти не изменило географические максимумы и минимумы индустриальной занятости. Самую высокую долю занятых сохраняют промышленные регионы Центра, Урала, Поволжья и Северо-Запада со специализацией на машиностроении, металлургии и других трудоемких отраслях (рис. 1). В большинстве экспортных регионов индустриальная занятость не слишком значительно превышает среднероссийскую, поскольку ресурсодобывающие отрасли, за исключением угольной промышленности, не трудоемки. В южных аграрных регионах доля занятых в промышленности заметно ниже (14-18%) и продолжает сокращаться, а в наименее развитых республиках Северного Кавказа и юга Сибири остается минимальной – 7-10%. Эти регионы выпадают из общероссийского тренда ХХ века – перехода от аграрной занятости в основном к индустриальной, а затем в сектор услуг, и идут по пути развивающихся стран, в которых структурный переход от аграрной занятости осуществлялся преимущественно в сектор услуг.
Занятость в промышленности за 2006-2007 гг. дана по новому классификатору (суммарно добывающие, обрабатывающие отрасли, производство и распределение электроэнергии, газа и воды). Доля занятых продолжает медленно снижаться и к 2007 г. она составила 21%. Хотя в некоторых индустриальных регионах, например, в выходившей из депрессии Ульяновской области, а также в Калужской и Тверской, промышленная занятость росла (рис. 1). Региональные различия в темпах и направлении динамики обусловлены совокупностью многих факторов: состоянием базовых отраслей и предприятий (отток занятых из промышленности замедлился благодаря опережающему росту заработков), наличием альтернативных рабочих мест в секторе услуг (особенно в регионах с крупными агломерациями), привлекательностью трудовой миграции в столичную агломерацию (для областей Центра) и др.
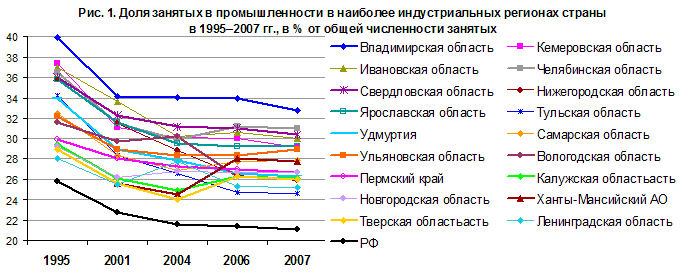 | | Рис. 1. Доля занятых в промышленности в наиболее индустриальных регионах страны в 1995-2007 гг., в % от общей численности занятых |
В отличие от длительного спада промышленной занятости, в сельском хозяйстве сокращение началось значительно позже, до середины 1990-х гг. доля занятых даже росла (с 13 до 15% занятых в целом по РФ), несмотря на почти двукратный спад сельскохозяйственного производства. Такая динамика объясняется вынужденной политикой сохранения занятости из-за низкой мобильности сельского населения и отсутствия альтернативных рабочих мест на селе. Для поддержания социальной стабильности руководители сельхозпредприятий сохраняли рабочие места, выплачивая работникам минимальную заработную плату. Сыграл свою роль и приток более чем миллиона мигрантов из стран СНГ в сельскую местность России, в основном в южные регионы. В 1990-е годы российское село фактически стало трудоизбыточным, хотя в советское время трудоизбыточность была характерна только для республик с высокой рождаемостью и значительным приростом трудовых ресурсов. Только с конца 1990-х структурный перекос начал уменьшаться, доля занятых в сельском хозяйстве страны к 2001 г. снизилась до 12,3%, а в 2004 г. - до 10,4%. По новому классификатору ОКВЭД доля занятых в первичном секторе экономики (сельское и лесное хозяйство, рыболовство) составляла в 2007 г. 10,4%. Если вычесть занятость в лесном хозяйстве (более 0,4% в 2004 г.) и в рыболовстве (около 0,2%), которые до 2005 г. учитывались отдельно, то сельскохозяйственная занятость в 2007 г. снизилась до 9,8%, т.е. в полтора раза по сравнению с серединой 1990-х гг.
На региональном уровне новая тенденция сокращения занятости в аграрном секторе проявилась в разное время и с разной силой (рис. 2). В маргинальных для сельского хозяйства территориях сокращение началось раньше и было максимальным: в 2004 г. на Дальнем Востоке в сельском хозяйстве осталось менее 2/3 занятых, а в Северо-Западном федеральном округе – 78% занятых по сравнению с 1995 г. В Южном и Центральном федеральных округах численность занятых росла до конца 1990-х годов (за 1995-2000 гг. на 7-8%), причем в Центре основной прирост пришелся на более южные черноземные области. Сокращение аграрной занятости в этих округах началось только с 2000-х гг. и шло быстрее в Центре. В результате усилилась концентрация сельскохозяйственного производства и занятых в нем в наиболее благоприятной природно-климатической зоне, что способствовало росту эффективности аграрного сектора России. Но для сельскохозяйственных регионах юга этот процесс имеет и негативные последствия, в них сохраняется проблема избыточной занятости и низкой производительности труда.
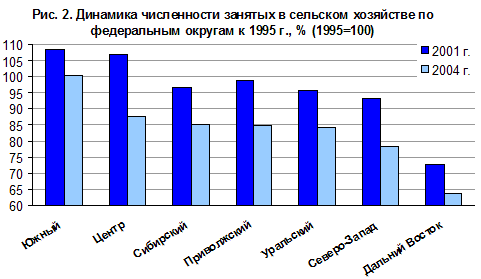 | | Рис. 2. Динамика численности занятых в сельском хозяйстве по федеральным округам к 1995 г., % (1995=100) |
В 2004 г. доля занятых в сельском хозяйстве оставалась высокой в степной и лесостепной зоне с благоприятными климатическими условиями – областях Черноземного Центра, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях (19-24%). В республиках Северного Кавказа и автономных округах юга Сибири занятость в агросекторе еще выше – 23-35%, но это следствие общей слаборазвитости их экономик. Для всех этих регионов допустимо сравнение доли занятых в сельском хозяйстве за 2004 г. с долей занятых в первичном секторе за 2006-2007 гг., т.к. структурно показатели почти не отличаются из-за слаборазвитости лесной отрасли и рыболовства. Сравнение показывает, что процесс сокращения аграрной занятости продолжается почти во всех краях и областях, хотя и более медленно, чем в начале 2000-х. Он будет продолжаться и далее, т.к. сельское население "русских" регионов стареет и уходит с рынка труда без адекватной замены молодежью. В аграрных республиках Юга этот процесс затормозился вследствие незавершенного демографического перехода и растущего притока молодежи на рынок труда, в том числе сельский. Как и в промышленности, в агросекторе увеличивается разнообразие региональных тенденций занятости.
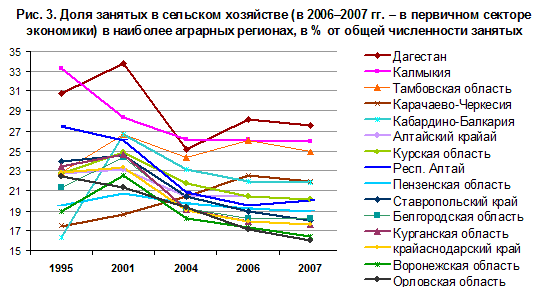 | | Рис. 3. Доля занятых в сельском хозяйстве (в 2006-2007 гг. – в первичном секторе экономики) в наиболее аграрных регионах, в % от общей численности занятых |
Изменения структуры занятости в секторе услуг произошли уже в первой половине 1990-х годов и были наиболее радикальными. В период кризиса роль услуг в структуре занятости возросла во всех экономических районах, наиболее существенно увеличилась доля занятых в торговле, аккумулировавшей высвобождаемых работников из промышленности. Максимальным ростом торговой занятости выделялись крупнейшие столичные агломерации и пограничные регионы с растущим "челночным" бизнесом (юг Дальнего Востока, Калининградская область, Северный Кавказ). В Москве и Московской области доля занятых в торговле выросла за 1990-1997 гг. с 7-9 до 15%, в С.-Петербурге и Ленинградской области – с 8 до 15-16%. Только благодаря федеральным городам произошел опережающий рост доли занятых в торговле в Центре и на Северо-Западе. Кроме того, в Москве одним из важнейших видов стала занятость в финансовых, банковских услугах, страховании и управлении (рост с 10 до 17% занятых). По сравнению с С.-Петербургом, Москва и раньше была городом с более выраженной сервисной структурой занятости, а в переходный период уровень ее "терциализации" стал близким к развитым странам.
Процесс сокращения доли занятых в образовании, культуре и науке затронул в 1991-1997 гг. только федеральные города с максимальной занятостью в науке, особенно Москву. Во всех остальных регионах доля занятых в бюджетных отраслях (образовании, культуре и здравоохранении) росла. Эти отрасли, несмотря на крайне низкую заработную плату, стали "убежищем" и для мигрантов из стран СНГ, и для местного населения в условиях ухудшения ситуации на рынке труда. Самым значительным структурным ростом занятости в отраслях социальной сферы отличались районы наибольшего притока мигрантов (Северный Кавказ и Центральное Черноземье) и наиболее проблемный Дальний Восток.
В период экономического роста в основном сохранились сложившиеся тенденции, хотя и с изменением скорости трансформаций по регионам. Данные о динамике численности занятых в секторе услуг за период экономического роста (1998-2007 гг.) показывают, что Москва остается бесспорным лидером (рис. 4). Хотя сравнения показателей численности занятых в столице до и после переписи 2002 г. имеют относительную достоверность, поскольку перепись прибавила Москве более полутора млн. жителей, тренд опережающего роста занятости в третичном секторе столицы по сравнению с общей динамикой занятости очевиден. С.-Петербург заметно уступает Москве по динамике численности занятых в секторе услуг по причине медленного роста трудоспособного населения. В переходный период вторая столица отставала от Москвы и в сервисной (постиндустриальной) трансформации структуры занятости из-за недостаточной концентрации финансовых ресурсов, необходимых для развития сектора рыночных услуг, но в 2000-е гг. этот процесс ускорился.
Среди федеральных округов быстрее всего растет численность занятых в услугах в Южном, Приволжском и Центральном (без Москвы), т.е. в наиболее освоенной и плотно заселенной Европейской части страны. Сервисный сдвиг занятости заметен и в Сибири. Наоборот, в регионах Северо-Запада, а также на промышленном Урале и на Дальнем Востоке за годы экономического роста не произошло дальнейшего сдвига занятости в сектор услуг, т.е. опережающего роста занятости в этом секторе по сравнению с общей динамикой занятости. На динамику занятости влияет и динамика численности населения, поэтому Дальний Восток отстает из-за сильного миграционного оттока, а Северо-Запад и Центр – из-за сильной естественной убыли. Для Уральского округа слабый рост занятости в секторе услуг обусловлены другой причиной - сохранением повышенной индустриальной занятости, ведь в состав округа входят крупнейшие ресурсно-экспортные регионы, в том числе автономные округа Тюменской области. Схожая ситуация и в ресурсодобывающих регионах Северо-Запада.
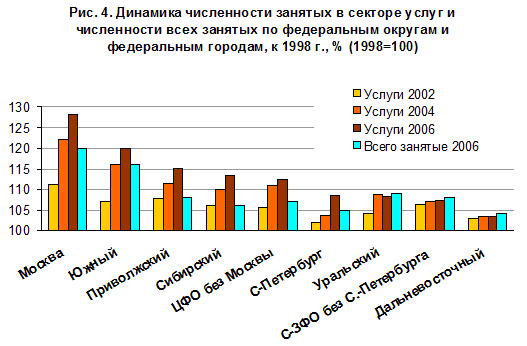 | | Рис. 4. Динамика численности занятых в секторе услуг и численности всех занятых по федеральным округам и федеральным городам, к 1998 г., % (1998=100) |
В 2007 г. средняя доля занятых в секторе услуг в стране составила 61%, а диапазон различий по регионам - от 50 до 74%, и за последние годы картина изменилась несущественно. Уже к концу 1990-х гг. в России сформировались три типа регионов с максимальной занятостью в секторе услуг. Во-первых, это крупнейшие агломерации федеральных городов, в которых рынок труда отражает реальную постиндустриальную трансформацию экономики. Во-вторых, слабозаселенные регионы Крайнего Севера с рассредоточенными учреждениями обслуживания, что вынуждает поддерживать повышенную занятость в бюджетных услугах. В-третьих, слаборазвитые республики и автономные округа, где в силу ограниченного предложения других рабочих мест доминирует занятость в услугах бюджетного сектора, финансируемого за счет федеральной помощи. В остальных регионах, и промышленных, и более аграрных, сдвиг в сторону сервисной занятости был более медленным. В 2000-е гг. картина принципиально не менялась, за исключением отдельных регионов (рис. 5). Немногочисленные случаи заметного сокращения доли занятых в секторе услуг объяснялись либо резким ростом добычи нефти (Ненецкий АО), либо ростом занятости в строительстве благодаря притоку бюджетных инвестиций (Чукотский АО в начале 2000-х гг.).
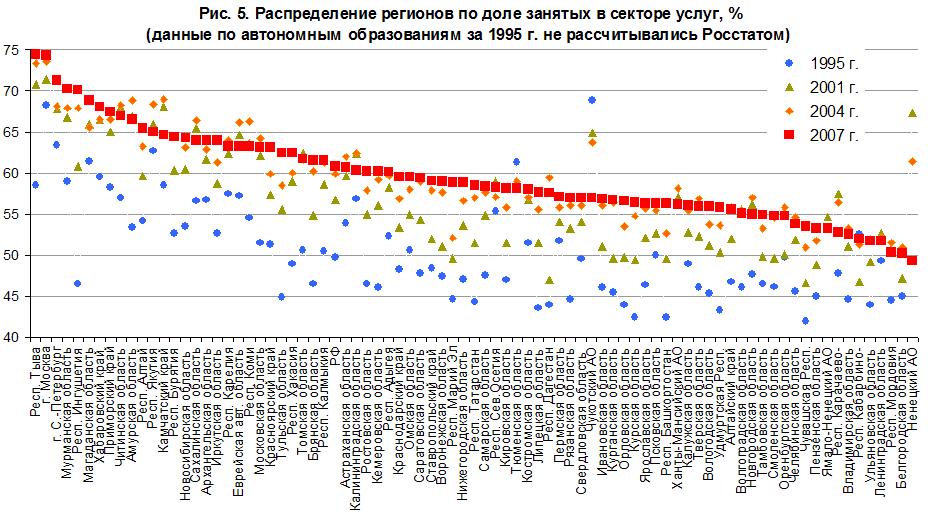 | | Рис. 5. Распределение регионов по доле занятых в секторе услуг, % (данные по автономным образованиям за 1995 г. не рассчитывались Росстатом) |
Переход на классификатор ОКВЭД не позволяет проследить динамику занятости по отдельным отраслям услуг после 2004 г. Данные за 2004 г. показывают, что по видам услуг максимальный рост занятости все еще был характерен для торговли, хотя далеко не везде она оставалась аккумулятором избыточной рабочей силы. В Москве значительный рост численности занятых в торговле (в 1,7 раз за 1998-2004 гг., хотя точность учета относительна) стал следствием ускоренного роста торговых сетей и индивидуального предпринимательства, этот "рывок" обусловлен усилившейся концентрацией финансовых ресурсов в столице и ростом доходов населения. В С.-Петербурге, с его менее развитым торговым сектором, рост занятости был минимальным, вторая столица отстает от Москвы и по торговым функциям. Отставание в развитии сектора услуг не удалось преодолеть даже с помощью мощных финансовых вливаний из федерального бюджета к 300-летию города. Среди федеральных округов медленнее всего росла численность занятых в торговле на Урале и в восточных регионах страны (из-за общего сокращения численности населения), а также на Северо-Западе, как и занятость в секторе услуг в целом. Лидируют федеральные округа наиболее освоенной и заселенной части страны - Приволжский, Южный и Центральный (даже без Москвы). В них торговля развивается и под воздействием растущего спроса, и по-прежнему как аккумулятор избыточной рабочей силы, поскольку другие отрасли сектора услуг пока слаборазвиты.
В первые годы экономического роста почти во всех федеральных округах стабилизировалась или даже сократилась занятость в сфере образования. В Центральной России прекратился рост численности занятых в здравоохранении и социальном обеспечении, хотя в других округах он продолжался (рис. 6). В целом бюджетные отрасли выполнили функцию аккумуляции высвобождаемых работников из других отраслей хозяйства в кризисный период, а в период экономического роста оказались не столь привлекательными, особенно образование. Однако с 2002 г. вновь начался рост занятости в отраслях бюджетной сферы из-за повышения заработков, а также новой волны сокращения занятости в промышленности. Во всех федеральных округах заметно увеличилась численность занятых в культуре (на 9-20% за 1998-2004 гг.), всюду выросла занятость в здравоохранении и социальной защите (на 3-9%), а на Юге и в Сибири - и занятость в образовании (на 5-8%). В результате, несмотря на почти повсеместное сокращение численности населения, вновь растет занятость в бюджетных отраслях. И если на Юге бюджетная сфера хотя бы отчасти аккумулирует прирост молодого трудоспособного населения республик, то в восточных регионах продолжается перераспределение убывающего населения из реального сектора в бюджетный.
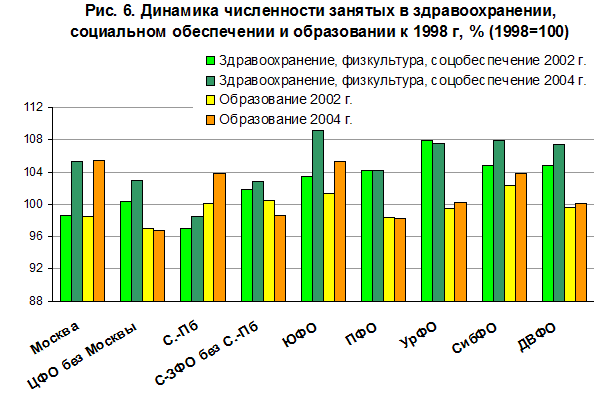 | | Рис. 6. Динамика численности занятых в здравоохранении, социальном обеспечении и образовании к 1998 г, % (1998=100) |
Обвальное сокращение занятости в науке в основном завершилось, его пик в регионах пришелся на 1995-1999 гг., когда численность занятых сократилась на треть. В период экономического роста в большинстве округов занятость в науке стабилизировалась или медленно сокращалась. Исключением стали только Дальний Восток (из-за общих потерь населения) и федеральные города: Москва за 1998-2002 гг. потеряла еще почти четверть занятых, а С.-Петербург - 10% из-за оттока в другие отрасли или выхода на пенсию (возрастная структура занятых в науке – самая старая среди отраслей). Для молодежи отрасль оставалась непривлекательной из-за низких заработков. Однако даже небольшое повышение заработной платы в 2002-2004 гг. остановило отток занятых из науки в столице, а в С.-Петербурге и Уральском округе дало прирост занятых. Численность занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании заметно выросла только в столице (на 6%) благодаря более высокой оплате труда, а также на Юге – еще одно проявление тенденции «раздувания» бюджетных и муниципальных рабочих мест. Во всех остальных округах и С.-Петербурге занятость в ЖКХ сокращалась. Отраслью с динамично растущей занятостью остаются финансовые услуги, такой же отраслью с начала 2000-х гг. стало управление (рис. 7). Рост занятости в финансовом секторе за последние два года ускорился во всех федеральных округах (динамика по Москве может иметь искажения из-за резкого увеличения численности населения после переписи 2002 г.), это позитивное следствие экономического роста.
Вряд ли можно считать позитивной тенденцией заметный рост численности занятых в управлении, ускорившийся в 2002-2004 гг. Максимальными темпами растет бюрократия как в наименее развитых регионах Юга, так и в экспортно-ресурсных Уральском и Сибирском федеральных округах. Только в федеральных городах рост управленческого аппарата удавалось сдерживать. В 2005 г. в целом по России рост занятых в управлении достиг 11%, поэтому региональные данные повторили эту негативную тенденцию. Новые региональные данные о занятости и заработной плате в управлении и заработной плате в начале 2009 г. рассмотрены в следующем разделе.
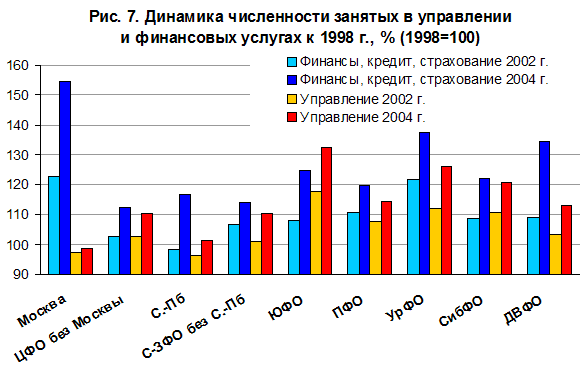 | | Рис. 7. Динамика численности занятых в управлении и финансовых услугах к 1998 г., % (1998=100) |
Путь в постиндустриальную экономику прокладывают крупнейшие агломерации, поэтому интересно сопоставить трансформации рынка труда федеральных городов. Сравнение отраслевой структуры занятых и ее динамики за 1998-2007 гг. показывает, что Москва достигла максимальной занятости в секторе услуг и уже завершает переход к постиндустриальной экономике. Санкт-Петербург пока отстает от Москвы в "терциализации" рынка труда и структурной перестройке занятости. В первые годы экономического роста это отставание нарастало, темпы роста занятости почти во всех видах рыночных услуг были значительно ниже, чем в столице, как и доля занятых в этих услугах (табл. 1). "Лицо" второй столицы оставалось более индустриальным и бюджетным, для развития рыночных услуг городу не хватало концентрации крупного бизнеса и финансовых ресурсов. К 2007 г. доля занятых в секторе услуг С.-Петербурга выросла до 71% от всех занятых и стала ближе к показателю Москвы (74%), но при этом промышленная занятость в С.-Петербурге сократилась несущественно (19%), и все еще намного выше, чем в Москве (13%).
Таблица 1. Отраслевая структура занятости в федеральных городах, % (классификатор ОКОНХ)
|
|
Москва |
С.-Петербург |
|
2004 г. |
1998 г. |
2004 г. |
1998 г. |
|
Всего |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Промышленность |
12,8 |
14,8 |
20,0 |
20,2 |
|
Строительство |
13,5 |
14,9 |
11,2 |
11,2 |
|
Всего сектор услуг |
73,5 |
71,4 |
68,2 |
68,2 |
|
Транспорт и связь |
7,7 |
7,9 |
9,2 |
9,1 |
|
Торговля, общественное питание |
25,4 |
17,5 |
20,0 |
19,9 |
|
Информационное обслуживание |
1,2 |
1,1 |
0,4 |
0,2 |
|
Общая коммерческая деятельность |
3,9 |
5,5 |
2,6 |
1,8 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание |
3,8 |
4,2 |
4,9 |
6,1 |
|
Здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение |
5,4 |
6,0 |
6,5 |
6,8 |
|
Образование |
6,5 |
7,2 |
8,9 |
8,8 |
|
Культура и искусство |
2,0 |
2,0 |
2,3 |
2,1 |
|
Наука и научное обслуживание |
6,4 |
9,4 |
5,3 |
5,7 |
|
Финансы, кредит, страхование |
3,3 |
2,5 |
1,5 |
1,4 |
|
Управление |
3,3 |
3,8 |
3,7 |
3,8 |
|
Другие отрасли услуг |
4,7 |
4,3 |
2,9 |
2,5 |
В целом сдвиг занятости в сектор услуг идет быстрее в более плотно заселенных регионах Европейской части страны, особенно в Центре, Поволжье и на юге. В слаборазвитых республиках и автономных округах сектор услуг в переходный период стал основной сферой занятости и продолжает аккумулировать прирост трудоспособного населения. Эту функцию выполняют финансируемые из бюджета отрасли социальной сферы, в которых занято 25-30% работников, а в Тыве – почти 40%, а также сектор рыночных услуг (торговля, транспортные, посреднические услуги), в том числе теневых, занятость в которых не полностью учитывается статистикой. На севере и востоке страны занятость в рыночных отраслях сектора услуг низка, за исключением приграничных регионов с развитой челночной торговлей, но остается повышенной в нерыночных отраслях социальной сферы из-за необходимости сохранять сеть учреждений обслуживания в удаленных поселениях. Темпы сдвига занятости в третичный сектор зависят от структуры экономики региона: чем значительней роль экспортно-сырьевых отраслей промышленности, тем медленнее идет рыночная трансформация сектора услуг и рост занятости в нем.
Занятость и заработная плата в органах управления
В России принято считать, что численность занятых в управлении чрезмерно велика. Но проблема не в количестве занятых, а в его соответствии объему выполняемых функций и в качестве услуг. Есть страны, например, скандинавские, где занятость в управлении велика, поскольку государство выполняет большой объем функций и делает это качественно. Для англо-саксонских стран типичен более ограниченный круг функций государства и поэтому меньшая доля занятых в госуправлении.
Для регионов России оценить масштабы и эффективность занятости в госуправлении очень сложно. Даже в измерении занятости в управлении на региональном уровне много проблем. До 2005 г. такая статистика существовала в старом классификаторе (ОКОНХ), но она включала не только государственное управление и местное самоуправление, но также руководство бюджетных организаций и другие категории. По новому классификатору (ОКВЭД) занятость в сфере управления не выделяется.
Тем не менее, есть возможность сделать некоторые региональные сопоставления. Росстат публикует данные о численности и заработной плате работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих (без учета силовых структур) органов управления в регионах, в том числе:
- в территориальных подразделениях федеральных органов власти,
- в органах исполнительной власти регионов,
- в органах местного самоуправления (МСУ).
Численность последней группы зависит от площади территории региона и его административной структуры (количества муниципалитетов в регионе), поэтому сравнивать муниципальных управленцев в регионах не имеет смысла. Например, в двух федеральных городах органы МСУ не развиты, поэтому доля занятых в местном самоуправлении не превышает 5% от всех управленцев. Показатели занятости в госуправлении такой жесткой связи с размерами территории не имеют, поэтому они более пригодны для сопоставлений.
По данным Росстата за 1-й квартал 2009 г., в регионах России насчитывался 1 млн. чиновников-управленцев, треть из них составляли занятые в органах МСУ. Важнейшая российская особенность – численность федеральных чиновников в регионах в среднем в 2,4 раза больше, чем чиновников региональной исполнительной власти (рис. 8). Это следствие сверхцентрализации функций госуправления в 2000-е гг. Самый сильный дисбаланс в пользу федеральных чиновников – в Челябинской, Ростовской, Калининградской, Оренбургской, Белгородской областях и Приморском крае (в 5-6 раз). Объективным фактором может быть пограничное положение всех этих регионов и, как следствие, наличие таможенных и других служб, относящихся к территориальным органам федеральной власти. Но все же в большинстве регионов численность федеральных чиновников-управленцев унифицирована и определяется штатным расписанием федеральных ведомств.
Наиболее интересен противоположный "полюс", где оказались такие регионы как Чечня (в ней региональных чиновников в 2,3 раза больше, чем федеральных) и Ингушетия (в 1,2 раза). В Москве численность госслужащих мэрии приближается к численности управленцев территориальных структур федеральных органов власти в городе (85%), что показывает раздутость столичного аппарата управления. Схожая ситуация в двух автономных округах, живущих на доходы от добычи нефти и газа (Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО – 81-87%), а также в ресурсно-экспортных республиках Коми (79%), Якутии (66%), Башкортостане (60%). Исходя из этого перечня регионов, можно выделить два основных фактора, способствующие раздуванию бюрократического аппарата региональной власти – слабый контроль федеральных властей за бюджетными расходами в высокодотационных регионах или значительные бюджетные доходы, позволяющие раздувать число чиновников регионах, поскольку гражданского контроля в России нет.
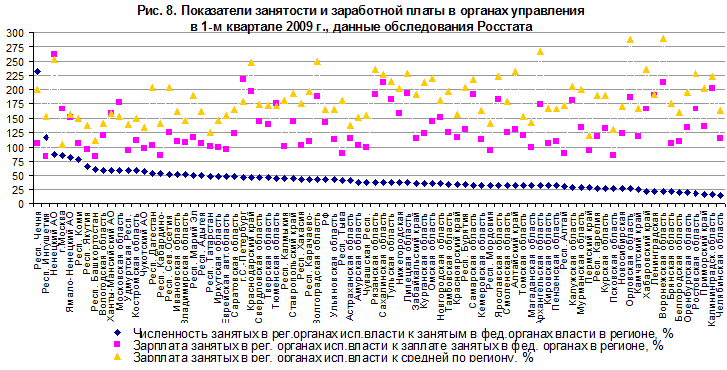 | | Рис. 8. Показатели занятости и заработной платы в органах управления (региональные органы исполнительной власти и территориальные структуры федеральных органов в регионах) в 1-м квартале 2009 г., данные обследования Росстата
|
Федеральных чиновников в регионах намного больше, но их заработки ниже. В среднем по РФ уровень заработной платы региональных чиновников в 1,4 раза выше, в подавляющем большинстве регионов чиновники региональной исполнительной власти также получают больше федеральных (см. рис. 8). Регионы более свободны в установлении размеров оплаты труда "своих" госслужащих, при этом возможности бюджета – не главный фактор. Но все же максимальный разрыв имеют регионы-"доноры", которые расходуют на эти цели собственные бюджетные средства: Ненецкий АО (2,6 раз), С.-Петербург (2,2 раза), Липецкая, Самарская, Ленинградская области (1, 9 раз) и не сильно дотационная нефтедобывающая Сахалинская область (2,1 раз). Впечатляет размер средней заработной платы госслужащих региональной исполнительной власти Ненецкого АО – 107 тыс. руб., занимающие второе-третье места Сахалин и ЯНАО заметно отстают (80 и 75 тыс. руб.). Однако в лидерах по отношению заработной платы региональных чиновников к федеральным оказались и некоторые дотационные регионы: Воронежская, Калининградская области, Краснодарский край (в 2-2,1 раза), а также Рязанская, Волгоградская и Орловская области (в 1,9 раз). В самых богатых регионах России – Москве и Ханты-Мансийском АО – разрыв более умеренный (в 1,6-1,7 раз), но оба региона отличаются повышенными заработками федеральных госслужащих (в ХМАО благодаря северным надбавкам).
Разрыв заработной платы госслужащих региональной исполнительной власти и средней зарплаты по региону еще выше и составляет в целом по стране 1,6 раз (см. рис. 8). При этом заработки региональных чиновников максимально превышают средние далеко не в самых развитых регионах – в Воронежской и Орловской областях (в 2,9 раз), в Волгоградской, Архангельской. Рязанской областях, Краснодарском крае (2,4- 2,7 раз). Сам по себе разрыв не критичен, если численность госслужащих невелика и появляется возможность лучше оплачивать их высококвалифицированный труд. Можно сопоставить все регионы по двум индикаторам - численности госслужащих региональной исполнительной власти, соотнесенной с численностью федеральных госслужащих в регионе, и разрыву оплаты труда региональных чиновников и средней зарплаты по региону. Слабо выраженная обратная зависимость между двумя индикаторами все же просматривается (см. линию тренда на рис. 9) и в субъектах РФ с относительно меньшей численностью госслужащих региональной исполнительной власти заработки последних сильнее превышают средние по региону, что экономически оправданно.
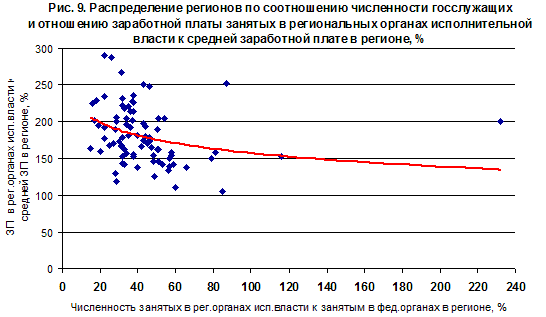 | | Рис. 9. Распределение регионов по двум индикаторам: а) соотношению численности госслужащих, занятых в региональных органах исполнительной власти и территориальных органах федеральной власти в регионе и б) отношению заработной платы занятых в региональных органах исполнительной власти к средней заработной плате в регионе (%, рассчитано по данным Росстата на 1 квартал 2009 г.) |
Однако в России есть и особые регионы. Бюджет Чечни дотационен на 93%, но численность региональных чиновников в 2,4 раза выше, чем федеральных (при обратной пропорции в целом по стране), а их заработки вдвое выше средних по региону. В Ингушетии те же особенности, но только выраженные слабее.
Рассмотренные выше показатели не позволяют оценить оптимальность числа госслужащих в регионах, но такая задача и не ставилась. Проведенный анализ позволил сравнить региональные различия в занятости и в заработках управленцев разного уровня власти, а также отрыв заработков в этой сфере от средних по региону. Анализ в очередной раз показывает эфемерность так называемой "вертикали власти", очень сильное влияние субъективных, в том числе политических, факторов на численность и уровень оплаты труда госслужащих региональной исполнительной власти, а также негативные последствия сверхцентрализации управления, которые привели к раздуванию численности федеральных чиновников в регионах при невысоком уровне оплаты их труда.
Занятость в малом бизнесе
В переходный период основной функцией малого бизнеса стало обеспечение альтернативной занятости для 6 млн. человек, что существенно снизило давление на рынке труда в ходе массового сокращения рабочих мест в основных отраслях экономики. Длительное время эта цифра не менялась, и только в 2000-х гг. занятость в малом предпринимательстве стала расти: за 2001-2007 гг. численность выросла с 6,5 до 9,2 млн. чел., а доля – с 10,8 до 13,8% от всех занятых в экономике. Помимо некоторого реального роста малого предпринимательства, более важная институциональная причина роста – искусственное дробление более крупных предприятий в целях получения льгот или облегченного налогового режима. Помимо малых предприятий, к малому бизнесу относятся предприниматели без образования юридического лица (ПБОЮЛ), численность которых по разным источникам колеблется от 2,5-3 млн. чел. (данные Единого госрегистра индивидуальных предпринимателей) до 5,1 млн. чел. по данным выборочного обследования рынка труда за 2006 г., проведенного Росстатом. Оно учитывает не только ПБОЮЛ, но и крестьянские (фермерские) хозяйства, которых в России более 260 тыс., а также занятых в домашнем хозяйстве производством для реализации (т.е. в товарном ЛПХ). По данным Росстата, в некоторых регионах численность таких занятых намного больше, чем занятых на малых предприятиях. В публикуемой региональной статистике занятые на малых предприятиях не объединяются с ПБОЮЛ и фермерскими хозяйствами. Совокупная оценка по всем видам малого бизнеса, которую можно рассчитать, не вполне отражает развитие малого бизнеса в регионах из-за сильных и не всегда объяснимых различий численности домохозяйств, производящих продукцию на продажу.
Статистика показывает, что в подавляющем большинстве регионов России легальный малый бизнес остается слаборазвитым. Объективные барьеры развития очевидны: спрос на товары и услуги малого предпринимательства зависит, во-первых, от уровня развития региона и доходов его жителей, и, во-вторых, от уровня урбанизации, наличия крупных городов и плотности населения, т.е. концентрации потребителей. Но еще более важную роль играют институциональные барьеры. Среди них есть не только общие для всей страны, но и дифференцированные по регионам, поэтому число малых предприятий и уровень занятости в малом бизнесе могут служить индикаторами предпринимательского климата. Региональные различия занятости в малом предпринимательстве отражают воздействие совокупности объективных и субъективных факторов, которые стимулируют или ограничивают его развитие. Лидирующее положение занимают федеральные города с быстро растущим сектором услуг, на Москву приходится каждое пятое малое предприятие и 20% занятых в малом российском бизнесе (без ПБОЮЛ), на С.-Петербург – каждое девятое предприятие и менее 7% занятых в 2007 г. Доля занятых в малом бизнесе в федеральных городах остается максимальной – 26-29% занятых в экономике в 2007 г.
Рейтинг регионов по доле занятых на малых предприятиях достаточно стабилен и вполне объясним (рис. 10). Для субъектов РФ с более развитым малым предпринимательством важны объективные факторы местоположения – наличие или соседство крупнейших городов (Московская, Ленинградская, Самарская, Нижегородская области), приграничное положение с особым льготным режимом (Калининградская область), на развитие влияют и другие институциональные факторы, например, более благоприятный предпринимательский климат (Томская область). Для регионов со слаборазвитым малым предпринимательством институциональные факторы (барьеры) еще более значимы. Среди них политика региональных властей (ряд областей Европейской части и республики Поволжья) и традиции теневой экономики (республики Северного Кавказа). В то же время заметную роль играют и объективные ограничения – малочисленность крупных городов, низкая доходность малого бизнеса в слабозаселенных северных и восточных регионах, а для ресурсно-экспортных регионов – альтернативные возможности трудоустройства в добывающих отраслях экономики с высокой оплатой труда.
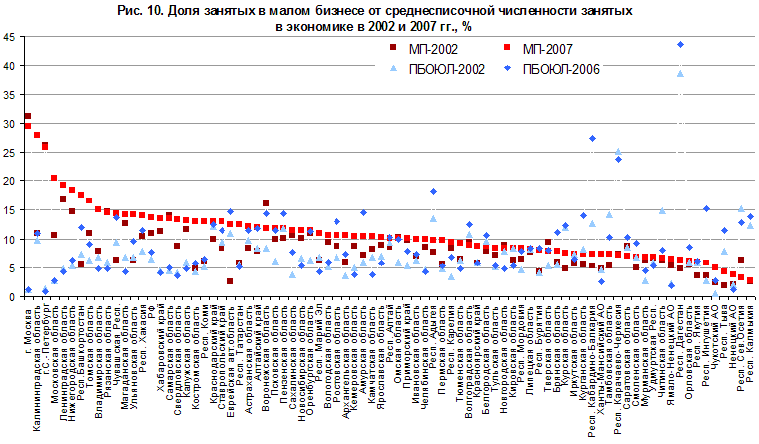 | | Рис. 10. Доля занятых в малом бизнесе от среднесписочной численности занятых в экономике в 2002 и 2007 гг., % |
Для занятости в форме ПБОЮЛ (7,7% занятых в среднем по РФ в 2006 г.) на первый план выходит совсем другой фактор – градиент север-юг, т.к. в эту форму включены занятые производством продукции ЛПХ для реализации. Во всех регионах Южного федерального округа и в черноземных областях Центра доля ПБОЮЛ среди занятых заметно выше и в основном растет. В республике Дагестан в 2006 г. она достигала 40%, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее – 20-25% всех занятых (рис. 10). В слабоосвоенных северных регионах этот показатель минимален, независимо от уровня экономического развития: и в слаборазвитых Корякском и Эвенкийском АО, и на Чукотке, и в богатых нефтегазодобывающих тюменских округах доля не превышает 3%. Невысокая доля ПБОЮЛ характерна также для крупнейших агломераций с наиболее развитым малым бизнесом, оформленным как юридическое лицо. В результате суммарная занятость в малом предпринимательстве отражает и центро-периферийные, и широтные (север-юг) различия, повышая показатели трудоизбыточных и аграрных регионов.
Исходя из доминирующих факторов и сложившейся географии малого бизнеса, вряд ли правомерно рассматривать его развитие как приоритетное направление для всех регионов России. Даже при снижении институциональных барьеров занятость в нем будет регионально дифференцированной по объективным причинам. С точки зрения перспектив развития малого бизнеса можно выделить три группы регионов:
- крупногородские и некоторые пограничные регионы, в которых объективные условия для роста занятости в малом бизнесе наиболее благоприятны;
- более плотно заселенные регионы юга, республики Поволжья, многие области Центральной России, в которых в первую очередь нужно изменять институциональную политику местных властей и создавать условия для легализации теневой экономики и трансформации существующей занятости в виде ПБОЮЛ и товарного ЛПХ в полноценное малое предпринимательство;
- удаленные и слабозаселенные регионы нового освоения, где развитие малого бизнеса объективно затруднено или является непривлекательной альтернативой для занятых.
Работающие пенсионеры
В этом разделе использованы относительно старые данные, но вынужденно, т.к. Пенсионный фонд после 2003 г. перестал раскрывать численность работающих пенсионеров в региональном разрезе. Тем не менее, анализ этой группы занятых очень важен в условиях постарения населения России, высокой занятости пенсионеров и ее устойчивого роста в переходный период. По данным Пенсионного фонда, только за 2002-2003 гг. доля работающих среди женщин-пенсионеров выросла с 15,5 до 18,2%, среди мужчин – с 17,5 до 20,5%, т.е. в России работали каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина. В 2006-2007 гг. это уже был каждый четвертый пенсионер – 26% мужчин и 24% женщин. Судя по общей для страны тенденции роста занятости пенсионеров, все региональные особенности, выявленные по данным 2003 г., остаются актуальными.
Уровень занятости пенсионеров по регионам различался в 2003 г. более чем в семь раз. Можно выделить две зоны повышенной занятости – северную и крупногородскую. На Севере из-за более раннего выхода на пенсию многие пенсионеры сохраняют трудоспособность и желание работать. Но главная причина - невозможность прожить на пенсию из-за высокой стоимости жизни и минимальных натуральных доходов от личного подсобного хозяйства в зоне неблагоприятного климата. В северных регионах Дальнего Востока, в автономных округах Тюменской области, Таймырском, Ненецком АО и Мурманской области доля работающих пенсионеров достигает 35-52%, в остальных северных регионах страны она превышает 25%. В крупнейших городских агломерациях высокая занятость населения старше трудоспособного возраста также отчасти вынужденная, она обусловлена низким уровнем пенсий и дороговизной жизни. В Москве и Московской области, в С.-Петербурге работают 26-31% пенсионеров-мужчин и 20-25% женщин.
Для пожилого населения аграрных южных регионов и слаборазвитых республик характерна традиционная стратегия адаптации "на земле", с помощью расширения личного подсобного хозяйства, а не поиска оплачиваемой работы. Контрасты между севером и югом видны во всех федеральных округах: доля работающих пенсионеров различается между разными регионами, входящими в состав Сибирского и Уральского федеральных округов, почти в 4 раза, между регионами в Дальневосточном ФО и в Северо-Западном – в 2,5-3 раза. В Центральном и Приволжском округах различия выражены слабее (в 1,5-2 раза) из-за меньших региональных контрастов климата и уровня урбанизации. В республиках Южного округа образ жизни населения слабо модернизирован и традиционные формы адаптации выражены более явно, поэтому в Ингушетии работает только 7% пенсионеров по сравнению с 18% в урбанизированной Волгоградской области этого же округа.
Сформировавшиеся региональные различия в формах адаптации очень устойчивы, при этом динамика последних лет показывает повсеместный рост доли работающих пенсионеров. В большинстве случаев это вынужденный рост занятости. Пенсионерам приходится работать, чтобы компенсировать снижение доходов относительно других групп населения (средний размер пенсий все больше отстает от средней заработной платы) и найти средства на оплату непрерывно дорожающих услуг ЖКХ. Рост занятости пенсионеров повышает их экономическую независимость от государства, но ценой превращения в изгоев на рынке труда - пенсионеры, как правило, заняты на самых непрестижных рабочих местах в бюджетной сфере с минимальной оплатой труда.
Возможное увеличение границы пенсионного возраста будет наиболее болезненным для жителей крупнейших городов и Севера, поскольку выход на пенсию в более старших возрастах еще сильнее снижает их конкурентоспособность на рынке труда. А искать работу большинству из новых пенсионеров придется, если соотношение динамики роста пенсий и стоимости жизни останется прежним.
Гендерные различия занятости
Для советских лет, начиная с 1960-х, была характерна сверхвысокая и сопоставимая с мужской экономическая активность женщин - более 80% женщин трудоспособного возраста работали. Принято считать, что в переходный период положение женщин на рынке труда резко изменилось. Но статистика показывает, что в целом за 1992-2006 гг. экономическая активность женщин трудоспособного возраста снизилась не слишком существенно (с 81,6 до 74,7%), темпы сокращения оказались сопоставимыми с динамикой активности мужчин данного возраста (с 86,6 до 78,9%). Наибольший спад активности пришелся на первые, наиболее кризисные, годы. Начавшийся с 1999 г. рост экономической активности имел примерно равную скорость для обоих полов, без гендерной дискриминации. Если сравнивать динамику экономической активности женщин в более широком возрастном диапазоне – 15-72 лет по методологии МОТ, то для женщин сокращение кризисных лет почти компенсировалось (63,7% в 1992 г. и 62,4% в 2007 г.), особенно по сравнению с мужчинами данного возраста (77,6 и 72,4% в те же годы). Женщины не только сохранили высокую экономическую активность, но существенно расширили ее возрастной диапазон за счет старших возрастов. С середины 2000-х гг. ситуация стабилизировалась и показатели экономической активности почти не меняются.
Территориальные различия в основном воспроизводят черты, унаследованные от советского времени, что говорит о высокой устойчивости воздействия базовых демографических и социальных факторов, формирующих эти различия. Наибольшие различия в экономической активности женщин, как и в предыдущие десятилетия, характерны для двух типов регионов:
- республик Северного Кавказа с традиционалистскими семейными установками и более высокой рождаемостью, привязывающей женщин к дому; в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии уровень их экономической активности в возрасте 15-72 лет не превышает 50%;
- регионов Крайнего Севера с сохранившейся с советских времен максимальной экономической активностью женщин (более 67%), в том числе из-за более молодой возрастной структуры населения.
Гендерные различия в занятости по сравнению с советским периодом усилились незначительно, доля женщин в структуре занятого населения сократилась с 50% до 48-49%. В начале переходного периода женская занятость снижалась быстрее, особенно женщин старшего трудоспособного возраста, терявших работу в первую очередь. Но с дальнейшим ухудшением ситуации на рынке труда сокращение занятости полов шло примерно равными темпами. И в начальный период экономического роста увеличение численности занятых было практически равным для мужчин и женщин (на 6,5-6,7% за 1999-2001 гг.).
Постепенно меняется и соотношение мужчин и женщин на рынке труда вследствие высокой мужской смертности в трудоспособных возрастах и роста занятости женщин в старших возрастах. Если в начале 2000-х гг. мужчины преобладали среди занятых в 3/4 регионов, поскольку возраст их выхода на пенсию выше, то в 2006-2007 гг. такое преобладание сохранилось только в 55-57% регионов. Более женским становится рынок труда почти всех областей Центра и половины регионов Северо-Запада, которые имеют наиболее постаревшую возрастную структуру населения. Аналогичные трансформации набирают силу в большинстве регионов Приволжского федерального округа.
В начале 2000-х гг. наиболее заметный дисбаланс в пользу женщин (52% занятых) имели только самые слаборазвитые регионы (республика Тыва, Агинский Бурятский и Коми-Пермяцкий АО) со специфическими гендерными ролями: в связи с распространенностью асоциальных явлений и высокой мужской безработицей женщины становились лидерами на низкоконкурентном рынке труда и основными "кормильцами" семей. Гендерная специфика в сфере занятости выражена в этих регионах более явно из-за преобладания титульного населения, но те же процессы характерны и для титульного населения республики Алтай. Явная феминизация занятости по тем же причинам сложилась в районах проживания коренных малочисленных народов Севера: доля женщин среди занятых достигала 57%, а в неаграрных отраслях (в основном это бюджетная сфера) - 68%. Не только в слаборазвитых республиках и автономных округах, но и в сельской местности Нечерноземья женщина все чаще становится фактическим главой семьи, заменяя деградирующих мужчин. Такой пример социального равенства полов трудно назвать позитивным.
Заметный дисбаланс в пользу мужчин сохранился только в трех типах регионов. Во-первых, это регионы нового освоения – нефтегазовые округа Тюменской области, большая часть Сибири и весь Дальний Восток (40-48% женщин среди занятых) с тяжелыми условиями труда и преобладанием "мужских" добывающих отраслей в структуре экономики. Во-вторых, регионы аграрного юга с несколько пониженной долей женщин среди занятых из-за больших нагрузок в полутоварном личном подсобном хозяйстве. В-третьих, часть республик Северного Кавказа с избыточным предложением мужской рабочей силы и выдавливанием женщин с рынка труда. Например, в Ингушетии доля женщин среди занятых снизилась до трети (34%) к началу 2006 г., это самый низкий показатель в стране.
Реальные гендерные особенности безработицы весьма далеки от стереотипных представлений о "женском лице безработицы", основанных на статистике зарегистрированной безработицы. Обследования Госкомстата РФ по методологии МОТ (в них учитываются не только зарегистрированные, но и незарегистрированные фактические безработные) показали, что доля женщин среди безработных меньше половины (45-48% в течение 1992-2006 гг.) и близка к их доле в экономически активном населении. Преобладание женщин среди зарегистрированных безработных (63-72%) объясняется тем, что женщинам труднее использовать активные стратегии поиска работы, они чаще обращаются за помощью в государственные органы занятости, чтобы получить содействие в трудоустройстве или мизерные пособия по безработице. Ситуация с женской зарегистрированной безработицей меняется в зависимости от состояния региональных рынков труда. В регионах с низкой безработицей доля женщин среди зарегистрированных безработных может превышать 70-80%. При ухудшении экономической ситуации в регионе и возрастании напряженности на рынке труда доля женщин среди зарегистрированных безработных снижается.
Данные по общей безработице (по методологии МОТ) за 2000-2007 гг. показывают, что в 60-80% регионов мужская безработица была выше женской, поскольку женщины при поиске работы менее требовательны к характеру труда и уровню его оплаты, чаще готовы к снижению социально-профессионального статуса. Гендерные различия безработицы в регионах не всегда имеют очевидное объяснение, т.к. на них влияет множество разных факторов. Тем не менее, можно выделить несколько типов регионов, в которых уровень женской безработицы в 2002-2006 гг. был равен или выше, чем мужской:
- Благополучные субъекты РФ с минимальной безработицей (федеральные города с областями, Самарская область). В них срабатывает тот же механизм, что и в зарегистрированной безработице: при лучшей ситуации на рынке труда конкурентоспособность женщин ниже, особенно не имеющих профессионального образования и немолодых.
- Часть более аграрных регионов (Краснодарский, Алтайский края, Ростовская область и часть республик Северного Кавказа. При достаточно напряженной ситуации на рынке труда и высокой конкуренции за рабочие места женщины выбирают стратегию выживания за счет полутоварного личного подсобного хозяйства, но не теряют надежды найти оплачиваемую работу и не переходят в категорию экономически неактивных.
- Часть северных и восточных регионов с ресурсно-экспортной экономикой, преимущественно мужской занятостью и дефицитом "женских" рабочих мест (автономные округа Тюменской области и др.). Однако влияние отраслевой структуры экономики на гендерные показатели безработицы заметно не во всех ресурсодобывающих регионах.
Региональный анализ показывает, что в уровне занятости гендерное неравенство минимально и продолжает сокращаться. Однако за благополучными цифрами занятости скрывается горизонтальная (по отраслям) и вертикальная (по статусу) сегрегация женщин, результатом которой стали значительные гендерные диспропорции в оплате труда (см. раздел Социально-экономическое положение домохозяйств).
Условия труда
В переходный период основой российской экономики стали сырьевые отрасли промышленности и экологически грязные отрасли первого передела (металлургия, химия). При такой структуре экономики невозможно решить одну из наиболее острых проблем – очень высокую занятость во вредных условиях труда. В целом по стране в 2003-2004 гг. почти четверть занятых в промышленности (в т.ч. 29% мужчин и 16% женщин) работали во вредных условиях труда. Региональные различия определяются специализацией экономики: во всех ресурсодобывающих регионах Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, в металлургических регионах (Липецкой, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской областях, Красноярском крае) во вредных условиях работали от трети до половины мужчин, занятых в промышленности.
Повышенная занятость женщин во вредных условиях труда остается проблемой не только тех же ресурсодобывающих регионов (20-28% в 2004 г.), но и Ивановской области (34% занятых в промышленности). Это единственный регион России, где женщин среди работающих во вредных условиях труда больше, чем мужчин. Несмотря на значительный спад в текстильной промышленности, эта отрасль с преобладанием женской занятости остается ведущей в экономике области, но условия труда в ней не улучшаются из-за недостатка инвестиций в модернизацию текстильного производства.
В подавляющем большинстве промышленных регионов с высокой долей занятых во вредных производствах этот показатель вырос за 2000-2003 гг. (рис. 11), особенно для мужчин (с 27 до 29% в среднем по РФ). Экономический рост сопровождается ухудшением условий труда занятых в базовых отраслях промышленности, это еще одно подтверждение низкого качества роста, основанного на увеличении добычи и экспорта минеральных ресурсов и продукции первого передела.
С 2005 г. общие показатели по промышленности заменены данными о занятости во вредных условиях по группам отраслей в соответствии с классификатором ОКВЭД. В 2007 г. максимальная доля занятых во вредных производствах. как и ранее, была характерна для добывающей промышленности – 38%, в т.ч. 42% мужчин и 23% женщин.
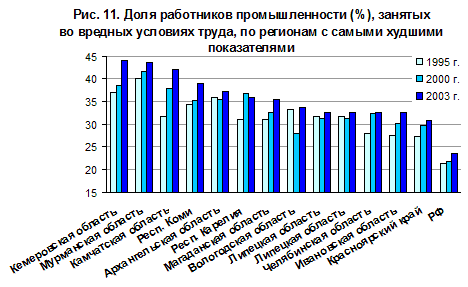 | | Рис. 11. Доля работников промышленности (%), занятых во вредных условиях труда, по регионам с самыми худшими показателями
|
Безработица в переходный период
Тенденции безработицы в регионах зависят от макроэкономической ситуации - периодов экономического роста и кризисов. Но в России есть свои особенности: сильные кризисные спады 1990-х не приводили к адекватному росту безработицы, поскольку основной реакцией на экономический кризис было резкое сокращение заработной платы, намного более сильное, чем занятости. Так, экономический спад первой половины 1990-х годов был почти двукратным, но российский рынок труда не отреагировал на него сопоставимым сокращением занятости. Большинство предприятий сохраняло избыточную занятость, отправляя работников в неоплачиваемые отпуска, используя механизмы длительных задержек выплат заработной платы, обесцениваемой инфляцией. Рынок труда стал более адекватно реагировать на экономические изменения только в конце 1990-х годов. В период финансового кризиса 1998 г. уровень безработицы вырос до максимума – с 9% до 13,2%, но при этом доходы населения сократились почти на треть.
Первые годы экономического роста дали значительный позитивный эффект, уровень безработицы к 2002 г. снизился на треть, до 8,1% экономически активного населения. Однако в 2003 г. рынок труда перестал реагировать на продолжающийся экономический рост, безработица выросла до 8,6%. Инверсия объясняется многими причинами. В промышленности замедлили темпы развития трудоемкие импортозамещающие отрасли, а быстро растущие экспортные сырьевые отрасли не нуждаются в большом количестве работников, к тому же в них началась борьба за снижение издержек, следствием которой стала оптимизация занятости. В сельском хозяйстве также ускорилось высвобождение рабочей силы, часть сельхозпредприятий перестала существовать или была скуплена бизнесом, который в зерновых районах избавлялся от трудоемкого, но убыточного животноводства. И хотя сектор услуг продолжал аккумулировать высвобождающихся работников, безработица вновь стала расти. Это подтверждают и показатели общей безработицы (по методологии МОТ), которые рассчитываются по данным выборочных обследований рынка труда и более полно учитывают все виды незанятости, и показатели зарегистрированной безработицы. Более устойчивое снижение безработицы началось только в 2004 г. и к 2005-2006 гг. ее уровень сократился до 7,2%. К концу периода экономического роста уровень безработицы в России снизился до минимума – 6% в среднем по стране (данные обследования рынка труда Росстата за ноябрь 2007 - август 2008 гг.)
Региональные различия безработицы, измеряемой по методологии МОТ, зависят от совокупности трех факторов: демографических (динамики трудоспособного населения), экономических (уровень развития и структура экономики) и географических (агломерационные преимущества или удорожающие факторы удаленности, слабой освоенности территории). Максимальный уровень безработицы в 2008 г. сохранялся в слаборазвитых республиках с растущим населением: в Ингушетии (47% экономически активного населения), в Чечне (36%), а также в Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Тыве (14-18%), но в большинстве из них показатели медленно улучшались. Повышенный уровень безработицы (9-14%) имеют остальные республики ЮФО, а также сибирские республики Бурятия и Алтай. Улучшилась ситуация на рынке труда в большинстве ресурсодобывающих регионов, за исключением республики Якутия (9%). Самая лучшие показатели – в федеральных городах и Московской области с наиболее динамично развивающимся рынком труда, в них уровень безработицы с середины 2000-х не превышает 1-3%. В половине регионов России показатель различается несущественно (5-7%), что в основном отражает реальное положение, но отчасти связано с недостаточной выборкой региональных обследований Росстата (Карта. Уровень общей безработицы в 2003 г., Уровень общей безработицы в 2004 г., Уровень общей безработицы в 2006 г.,
Уровень общей безработицы в 2008 г.).
Региональная динамика общей безработицы совпадала с общероссийским трендом, наиболее высокие показатели во всех регионах отмечались в 1998-1999 гг., при этом в период кризиса 1998 г. различия между регионами уменьшились, поскольку рынки труда развитых регионов с исходно более низкой безработицей, как правило, сильнее реагируют на изменения макроэкономической ситуации. С улучшением состояния рынка труда межрегиональные различия, наоборот, росли, так как в наиболее проблемных регионах ситуация улучшалась медленней, чем в экономически сильных. Так, при максимальной безработице в 1998 г. десять регионов с лучшими и худшими показателями различались в 2,9 раза, а в более благополучном 2002 г. – в 4,4 раза. Однако другие методы расчетов не подтверждают в явном виде данный тренд: если отбросить по 5% регионов с максимальными и минимальными показателями, то для остальных 90% регионов «коридор» значений менялся относительно синхронно, сжимаясь только в последние два года экономического роста (рис. 12). 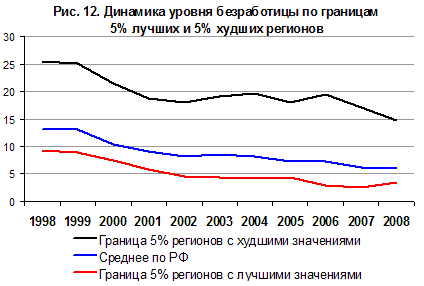 | | Рис. 12. Динамика уровня безработицы по границам 5% лучших и 5% худших регионов (без укрупненных авт.округов и Чечни) |
Сравнение гистограммы распределения регионов по уровню безработицы показывает, что потребовались три года экономического роста для возвращения распределения к кривой 1995 г. После этого, несмотря на дальнейший рост экономики, картина почти не менялась (рис. 13). Как известно, в середине 1990-х гг. государственной политики в сфере занятости практически не было, следовательно, показатели безработицы после экономического шока, вызванного дефолтом, вернулись "на круги своя". Позитивное воздействие экономического роста не подкреплялось политикой снижения региональных диспропорций занятости. Кроме того, стагнация региональных рынков труда обусловлена характером экономического роста последних лет – в основном за счет нетрудоемких экспортных отраслей. Для выравнивания региональных различий недостаточно перераспределения бюджетных ресурсов, требуется кардинальное улучшение условий для экономического роста в проблемных регионах.
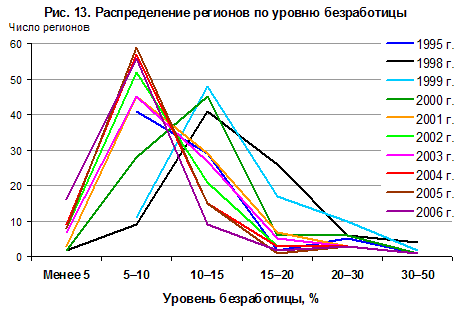 | | Рис. 13. Распределение регионов по уровню безработицы |
Показатели зарегистрированной безработицы менее пригодны для оценки состояния региональных рынков труда, особенно в 2000-е гг. Только в середине 1990-х годов с их помощью можно было выделить депрессивные промышленные регионы Европейской части России (Ивановская, Владимирская, Псковская области и др.), а также проблемные северные и восточные регионы с максимальной напряженностью на рынке труда из-за закрытия добывающих предприятий. К концу 1990-х годов по разным причинам (адаптация населения и развитие альтернативных форм занятости, крайне низкие размеры пособий и нерегулярность выплат и др.) региональные показатели зарегистрированной безработицы стали больше зависеть от наличия средств на выплату пособий.
В годы экономического роста сокращение уровня зарегистрированной безработицы не было устойчивым, вслед за положительной динамикой в первые годы после финансового кризиса 1998 г. последовал ее рост в 2001-2004 г. (почти вдвое по сравнению с 2000 г. до 2,6% в среднем по стране). Только с 2005 г. началось медленное сокращение и к лету 2008 г. уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,8%. Но даже в лучшее для рынка труда время сохранялась группа регионов с экстремально высокими показателями – республики Чечня (66% на конец 2007 г.) и Ингушетия (28%), причем в Чечне зарегистрированная безработица почти вдвое больше общей, чего не может быть. Устойчиво повышен уровень зарегистрированной безработицы в ряде других республик – Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Тыве (7-8%), а также на востоке страны – в Амурской, Магаданской областях (5-6%). Среди аграрных регионов зарегистрированная безработица была выше только в Алтайском крае (5%). Показатели зарегистрированной безработицы подтверждают общую тенденцию: слаборазвитые республики наряду с некоторыми удаленными регионами северо-востока страны не смогли за десятилетие экономического роста существенно улучшить ситуацию в экономике и на рынках труда.
Новый кризис и региональные рынки труда
Экономический кризис, начавшийся осенью 2008 г., привел к почти двукратному росту безработицы (с 5,6% летом 2008 г. до 9,5% в феврале 2009 г.). Однако пиковые показатели весны 2009 г. (уровень общей безработицы – 10%, зарегистрированной – 3,5%) не дотягивают до худших показателей 1990-х (13% и 4% соответственно).
Новый кризис затронул региональные рынки труда в разной степени. Во-первых, разными были темпы промышленного спада. Сильнее всего пострадали промышленные регионы металлургической и машиностроительной специализации, в большинстве из них производство сократилось на 20-39% (январь-май 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г.) Среди регионов машиностроительной специализации есть не вышедшие из депрессии, для них это был двойной удар. Черты депрессивности сохранили и многие дальневосточные регионы, и хотя в них промышленный спад был минимальным (после тяжелого кризиса 1990-х фактически нечему падать), их рынок труда находился в худшем состоянии и поэтому более уязвим. Даже сильный промышленный спад не всегда приводит к массовой безработице, поскольку есть альтернативная форма снижения издержек работодателя путем сокращения оплаты труда. В России эта форма широко распространилась с 1990-х гг. в виде длительных задержек выплаты зарплаты, административных отпусков, неполной рабочей недели и др. В ходе нового кризиса с задержками зарплаты пытаются бороться и, по официальной статистике, в крупных и средних предприятиях и организациях их объем невелик. Однако никто не знает, каких масштабов достигают невыплаты в малом бизнесе и неформальном секторе экономики. Административные отпуска и неполная рабочая неделя используются очень широко, в машиностроении такой режим охватывал весной 2009 г до 20% занятых (хотя в целом по экономике – не более 4% занятых по данным официальной статистики). Вследствие использования альтернативных форм снижения издержек бизнеса даже в наиболее пострадавших от кризиса регионах рост безработицы может быть умеренным. К тому же региональные власти всячески препятствуют высвобождению, порой с помощью прокуроров.
Во-вторых, сократилась и "беловоротничковая" офисная занятость, сильнее всего – в крупнейших городах. В этой сфере доминирует именно высвобождение, а не урезание зарплат. Но на рынках труда крупнейших городов намного больше альтернативных рабочих мест, и, к тому же, докризисный уровень безработицы был очень низким. Высвобождаемые чаще всего находят другую работу, реже пополняют ряды безработных, но при исходно низком уровне даже быстрый рост безработицы не критичен.
В-третьих, масштабные сокращения произошли в неформальной экономике. В секторе рыночных услуг и в строительной отрасли крупных городов заняты трудовые мигранты из других стран, причем часто нелегальные, поэтому масштабы высвобождения неизвестны, тем более что немалая часть трудовых мигрантов возвращается домой. Те же проблемы, но уже для российских граждан, характерны для республик Северного Кавказа, где из-за дефицита рабочих мест широко распространено отходничество. В кризис сократились возможности найти работу в других регионах (строительство, агросектор, торговля), напряженность на рынках труда республик юга выросла. Но измерить изменения также сложно, поскольку трудовые мигранты из Северного Кавказа до кризиса работали преимущественно в неформальном секторе экономики.
Вышеперечисленные особенности рынка труда регионов помогают более точно интерпретировать данные кризисной статистики занятости. Они несовершенны, но других данных нет. В разделе "Мониторинг кризиса в регионах" дан более детальный анализ состояния региональных рынков труда в период кризиса, поэтому в данном разделе Атласа можно ограничиться основными тенденциями.
Темпы роста безработицы были максимальными в декабре-феврале, к апрелю 2009 г. ситуация стабилизировалась. В мае наметилось даже некоторое снижение уровня безработицы, и зарегистрированной, и общей. Однако снижение уровня безработицы в России имеет сезонный характер – к лету она сокращается, а осенью растет, поскольку летом оживляются строительство и агросектор. Так происходит каждый год, и пока невозможно разделить влияние обычной, сезонной цикличности и реальной стабилизации на рынке труда в условиях кризиса. Цыплят по осени считают.
На региональном уровне разброс показателей безработицы за май 2009 г. остается очень сильным (рис. 14), хотя квартальные данные Росстата не вполне репрезентативны для регионов. "Пальму первенства", как и до кризиса, держат слаборазвитые республики. И кризис здесь не при чем, это давняя проблема острого дефицита рабочих мест для растущего населения. Кризисный рост безработицы характерен для двух типа регионов – депрессивных, которые при любом ухудшении экономической ситуации очень уязвимы (Ивановская, Брянская, Псковская области, Забайкальский край и другие восточные регионы), и для регионов со специализацией на машиностроении (Ульяновская область и др.) и черной металлургии, т.к. эти отрасли наиболее пострадали от кризиса.
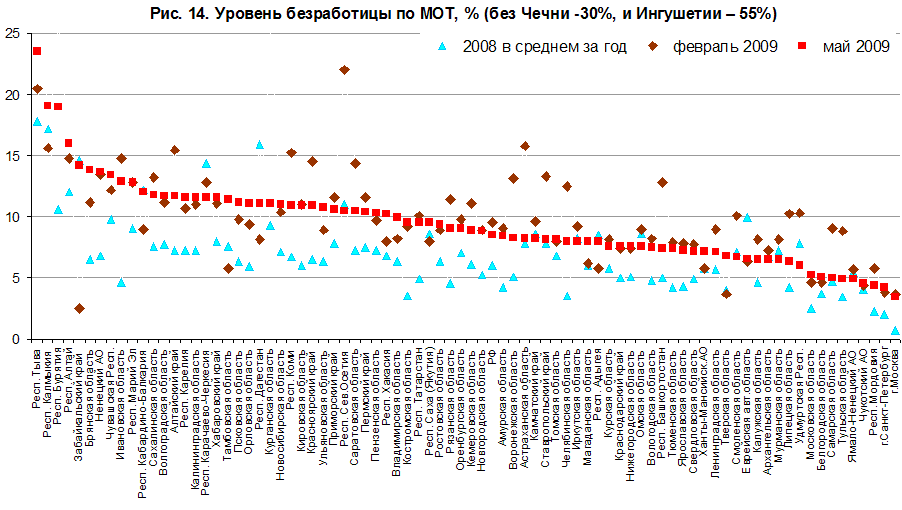 | | Рис. 14. Уровень безработицы по МОТ в регионах РФ, % (без Чечни и Ингушетии) |
Статистика безработицы не дает полной картины состояния рынков труда. Как уже отмечалось, они адаптируются к кризису не только через высвобождение, но и через рост неполной занятости (сокращенная рабочая неделя с низкой зарплатой, административные отпуска и др.). На самом деле это скрытая безработица и в регионах с сильным спадом промышленного производства она максимальна: в Ярославской области – 7%, в Свердловской и Челябинской – 8%, в Самарской -10% занятых. Более точно учитывать показатели безработицы вместе с неполной занятостью. Среди депрессивных и полудепрессивных регионов самая сложная ситуация на рынках труда Бурятии, Забайкальского края, Брянской, Ульяновской, Курганской и Ивановской областей, и не только в них. Среди более развитых – в Самарской, Свердловской, Челябинской и Орловской областях, можно добавить и Пермский край и Ярославскую область.
Важно понимать, что данные о безработицы в регионе – "средняя температура по больнице". Проблемы занятости концентрируются в промышленных городах с убыточными предприятиями, либо остановившимися, либо резко сократившими объемы производства. Таких городов с острым кризисом на локальных рынках труда десятки, особенно монопрофильных, зависящих от одного предприятия. Но статистики в доступном виде нет, хотя федеральные власти пытаются наладить мониторинг на уровне муниципалитетов. Но данных по общей безработице такой мониторинг все равно не даст (она не измеряется на уровне городов), а статистика по зарегистрированной безработице, которую можно отслеживать более оперативно, не всегда достоверна, региональные власти не любят отчитываться плохими цифрами.
Чтобы понять, какие города становятся зоной максимального риска, нужно учитывать три условия. Это состояние предприятия – вкладывались ли средства в модернизацию или это технологически устаревшие производства, а также насколько предприятие убыточно в условиях кризиса. Это "прописка" собственника. Если он местный – региональным властям легче надавить, чтобы бизнес держал работников в административном отпуске или в режиме неполной занятости, даже несмотря на убытки. Можно надавить и на неместного собственника, если у него в данном регионе есть другие, более значимые предприятия. Но если собственник московский и никак не связан по рукам и ногам другими активами в регионе, которые ему важно сохранить, – давить сложнее, даже с помощью прокурора. Третье условие – политика региональных и муниципальных властей. Если они не активны, не ищут вариантов выхода из кризиса, не способны разговаривать с попавшими в беду жителями города или не имеют политического веса для переговоров с собственниками типа Дерипаски, то ситуация накаляется. Получается Пикалево, Златоуст или поселок в Приморском крае. В них все три названные условия сработали: актив плохой, собственник не местный и других важных предприятий в регионе не имеет, а региональные власти не захотели или не смогли вмешаться, пока гром не грянул. Сколько таких городов и поселков может оказаться в стране – не знает никто.
|
 |